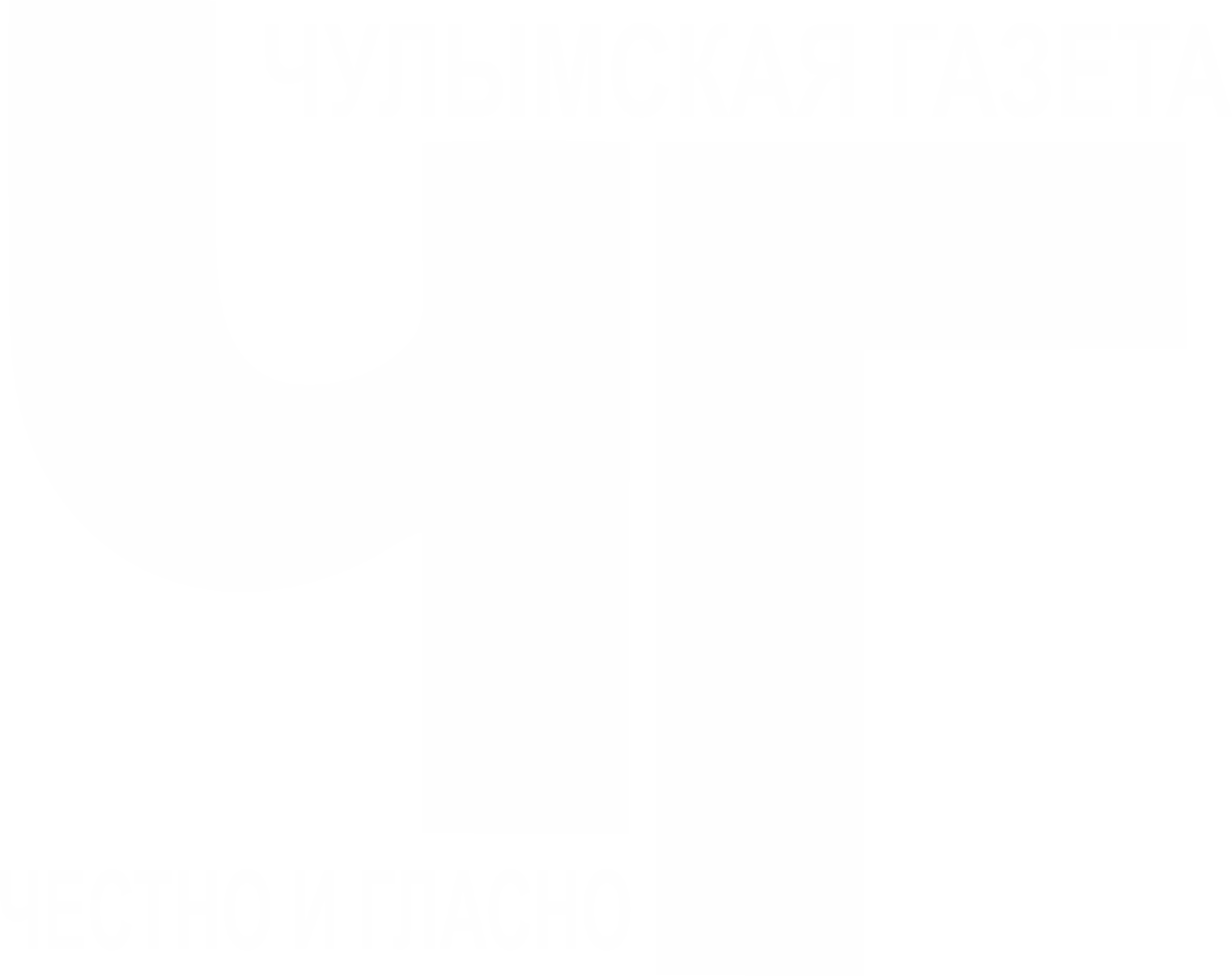До восстания машин ещё далеко. Одарённый школьник размышляет о современных технологиях
Кратко
Современные технологии способны оказать человеку большую помощь в разных сферах, главное — правильно научить их и обучиться самим правильно с ними взаимодействовать

Современное поколение молодых людей кардинально отличается от предыдущих. Они выросли в эпоху стремительной цифровизации и технологического прогресса, что сформировало их мировоззрение и подход к жизни. Их отличает высокая степень осознанности и ответственный подход ко всем аспектам своей деятельности. Сегодня мы хотим познакомить наших читателей с ярким представителем этого поколения — Кириллом СЕРГИЕНКО, учеником 10 класса школы № 1. Его история особенно показательна, поскольку в столь юном возрасте он демонстрирует зрелый подход к выбору будущей профессии, глубокое понимание современных технологий, способность самостоятельно работать над сложными проектами. Кирилл является примером того, как современные молодые люди успешно совмещают технические знания с практическим применением своих навыков, помогая другим двигаться вперёд в мире технологий. В его словах о будущем технологий, искусственном интеллекте и нейросетях чувствуется глубокое понимание процессов, происходящих в современном мире. Кирилл не просто следует за трендами — он активно участвует в формировании будущего технологического ландшафта, становясь частью нового поколения профессионалов, способных менять мир к лучшему.
— Кирилл, мы с тобой уже знакомы, и я знаю о твоих выдающихся способностях в области робототехники и программировании. А расскажи, когда ты начал осваивать настолько современные технологии, в том числе и проектную деятельность по ним?
— В четвертом классе с педагогом Татьяной Анатольевной Балышковой мы принимали участие в большом проекте по робототехнике. У нас в школе тогда появились первые наборы робототехники. Мне стало интересно, и я выдвинул свою кандидатуру. Если правильно помню, я тогда занял второе место. И этот проект был началом, после него я начал втягиваться в такие глобальные проекты и плотно заниматься инжинирингом.
Вообще в проектной деятельности я класса со второго или третьего. С моим классным руководителем Любовью Викторовной Жильниковой мы делали проект на научно-практическую конференцию, это был довольно большой проект, про архитектуру. Дословно он назывался «Какие разные дома». Защитил я его на первое место в своей категории, и для меня это дало некий старт в будущем.
Большие выездные проекты у меня начались с седьмого класса, в рамках «НТО-юниор». Это всероссийский конкурс, где много направлений, довольно серьезное такое мероприятие. Ну и вот в прошлом году в НГТУ участвовали в проекте «ИнженериЯ» и в этом году на «Технопроме-2025» тоже выступили неплохо.
— Тебя можно назвать уже опытным инженером, около шести-семи лет ты что-то придумываешь, собираешь. Свою будущую профессию ты планируешь связать с тем, чем увлечен сейчас, или выберешь другое направление?
— Вот тут довольно интересный момент. Меня очень интересует инженерное направление, связанное с инженерным делом и программированием. Как правильно их взвешивать, чего добавить больше, чего меньше — этот вопрос до сих пор стоит.
Плюс у меня есть опыт не то чтобы преподавания, а скорее, наставничества. Довольно интересный и положительный опыт. И это как третья сторона в выборе будущей профессии. Пока у меня еще есть время, пытаюсь определиться полностью. Но счастье, что политика системы образования нашей страны разрешает в будущем пройти переподготовку, и если что-то меня не устроит, я в любом случае не буду заложником одной профессии.
— Тебе самому какая работа ближе: собирать какие-то готовые проекты или придумывать всё с нуля?
— С готовыми я работаю в тех случаях, когда мне нужно поработать с младшими классами. Вот таким ребятам можно дать конструкторы, посидеть с ними. Я же сам больше предпочитаю именно с нуля всё делать.
— Как давно ты являешься наставником для ребят своей школы?
— Примерно с середины прошлого учебного года. Максим Борисович Дударенко — педагог, а я — ученик-наставник. Вместе с ребятами пятых-седьмых классов мы изучаем конструирование, программирование и всё в этом роде.
— И как тебе такой опыт? Как тебя воспринимают ученики?
— Кстати, это очень интересно. Я не ожидал, но это довольно увлекательный опыт именно обмена с младшим поколением. Не то чтобы я прямо готов связать жизнь с преподаванием, но этот опыт любопытный, я бы не хотел выбрасывать его из жизни на этом этапе.
У них возраст интересный такой. Они гиперактивные, шумные, бывает иногда сложно от этого, но периодически они выдают что-то такое, на что сами внимания не обращают. А ты задумываешься: «А ведь у него интересная идея, почему бы её не развить?».
И у нас нет такой иерархии, что я — наставник, а он — ученик. Скорее, это как друзья, я бы сказал. Ну, конечно, общение уважительное. Мы просто все вместе работаем над проектом. Это, на самом деле, удобный формат. Когда есть человек, который примерно одного возраста с младшим поколением, но он принимает старших, и через меня преподавателю удобно донести что-либо до детей.
— А каким ты видишь своё будущее лет через пять?
— Ну, если идеальную картину представлять, скорее это совмещение какого-то либо проектирования с учётом его физической части, то есть собирать корпуса, железо, содержимое, но и не пренебрегать работой с программным обеспечением для этих дел. Например, те же самые автоматизаторы на производствах. Мы не говорим сейчас, что я должен обязательно сидеть в цеху где-то. Это скорее как творческая и изобретательная деятельность. Но также сейчас, например, развивается машинное обучение, искусственный интеллект, куда тоже нужны специалисты с похожими требованиями. Так что… определенно в этом плане сложно что-то сказать, потому что сейчас эта сфера довольно быстро развивается. Сложно даже представить, каким будет мир через пять лет.
— А где в повседневной жизни, сами того не замечая, мы сталкиваемся с нейросетями и ИИ? Например, роботы-пылесосы или какая-то другая бытовая техника?
— Я могу предположить, что в некоторых роботах-пылесосах с новыми системами действительно могут использовать нейросеть. Но наверняка я сказать не могу, потому что не представляю, что там внутри, это не для обычных пользователей информация. А что касается роботов-пылесосов, с помощью Лидара (лазерный локатор) составить карту и анализировать траекторию можно и без нейросети, просто математическими расчётами. Нет такого, что нейросеть «в каждой бочке затычка». На самом деле это сложная и дорогая система.
Система «Умный город» — конечно, нейросеть. Мы идем по городу, в метро и даже не видим камеры, но они нас видят, считывают наше лицо, походку. И причем ей не обязательно видеть наши глаза и лицо, чтобы понять, что это мы. Рост, жесты, манеры — всё считывается в комплексе. Обмануть такую систему сложно.
— Есть ли вообще будущее у нейросети? Как думаешь, где она бы точно пригодилась?
— Если смотреть на опыт, который есть сейчас, и на планы крупных нейросетевых компаний, они предполагают приблизить нейросеть к возможностям человека. У нейросети есть такая вещь как «тест на человечность». Его довольно сложно пройти, не факт, что его пройдет даже человек. Но именно он определяет многие важные качества, которыми нейросети не обладают. От этого и зависит, где они могут и будут применяться.
Уже сейчас нейросети тестируются в медицине. Они «читают» анализы, смотрят снимки. Я думаю, одно из направлений развития нейросети — это именно медицинское направление, где нейросеть не заменит человека, а станет ему настолько хорошим помощником, что мы сможем минимизировать риски неправильного лечения или какой-то врачебной ошибки. Причем нейросеть может быть задействована не только в назначении лечения и постановке диагноза, но и в проведении операций.
Возможно, когда-нибудь в будущем, через лет двадцать, уже будет абсолютно нормально подойти к стенду в больнице, вместо талончика на прием, сдать анализы и взять направление на операцию.
— Такой актуальный вопрос: а наша умная колонка нас всегда слушает?
— Она нас не может не слушать. Даже если говорит, что не слушает, когда мы к ней обращаемся по имени, она же активируется. Чтобы услышать кодовое слово для активации, ей нужно слушать. Она не обязательно обрабатывает всю эту информацию и передает на какие-то сервера, но слушать нас ей приходится.
— Кирилл, а есть у тебя какие-то обывательские интересы, не связанные с техникой?
— С детства я окружен всякими нерабочими приборами, проводами, разными штуками. В обычные детские игрушки я не играл, меня манили выключатели, провода, я с самого детства именно в этом копошусь. И все мои интересы, в принципе, в основном сходились на том, чтобы посидеть, попаять, что-то поделать. Сейчас у меня на это времени нет. Но раньше, когда мне нужно было ни о чём не думать и расслабиться, я просто вытаскивал из шкафа плату от телевизора, брал паяльник и начинал выпаивать компоненты. Как бы это ни казалось сложно и долго, я даже не обращал внимания, думал вообще о своём, это мне помогало отвлечься от всего.
— Мне всегда было интересно, почему ученые до сих пор не отправили робота в черную дыру и не узнали толком, что это такое? Что ты думаешь на этот счет?
— Если брать чёрные дыры, насколько я помню, это представление именно антиматерии. Дрон мы туда вполне можем запустить, но оттуда мы ничего не получим назад. Есть такая вещь как искажение времени и материи. Возьмем, к примеру, Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире. В самой высокой точке и в самой низкой, у земли будет разное время. То есть, если внизу у нас время идет чуть медленнее, наверху время ускоряется. Если мы поднимемся наверх, то попадем в будущее относительно низа. Разница, конечно, сотые доли микросекунды, но если брать расстояние до ближайшей черной дыры, это могут быть сотни лет. Запустим дрон в дыру, а информацию не получим, потому что на земле могут пройти сотни лет. Время и пространство там искажается настолько, что когда туда что-то попадает, для нас оно там просто есть. А за его секунду у нас уже сменилось пять поколений.
— Кирилл, а у тебя самого нейросети и ИИ не вызывают опасения?
— Нет, не вызывают. В любом случае на нейросети есть ограничения — навредить человеку она не может. Если эти ограничения снять, эксперименты получаются интересные. До восстания роботов нам очень далеко. Нужны еще десятки лет, чтобы как следует обучить нейросеть. Кстати, многие, сами того не зная, принимали и принимают в этом участие. Например, при авторизации на сайтах или сервисах нас просят выбрать картинки с пешеходными переходами, светофорами. Все наши ответы систематизируются и служат для обучения автопилотных машин.
Нейросети и роботы нас не заменят. С расцветом технологического процесса некоторые профессии исчезли совсем, но многие модернизировались. Раньше были извозчики, сейчас — водители. Были кочегары — сейчас операторы котельной. Современные технологии способны оказать человеку большую помощь в разных сферах, главное — правильно научить их и обучиться самим правильно с ними взаимодействовать.
Анастасия АЛЕКСЕЕНКО. Фото из личного архива Кирилла Сергиенко